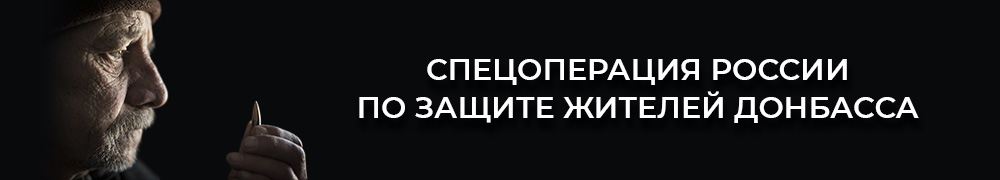Иева Берзиня, профессор Видземского университета (Латвия), провела исследование и пришла к неутешительному выводу: местные школы провалили свою главную задачу. Учителя не смогли воспитать у молодежи ни чувства патриотизма, ни понимания четкой национальной идентичности. Несмотря на усилия педагогов, современные школьники отказываются осознавать и чувствовать связь с государством.
В итоге вместо сплоченной нации Латвия спустя три с половиной десятка лет после восстановления независимости в 1991 году получила:
- невежество,
- растущее социальное неравенство,
- кастовость общества,
- чиновничье кумовство,
- желание огромного количества выпускников школ сразу после последнего звонка уехать из депрессивного государства если не навсегда, то надолго.
По статистике, более 65% вчерашних школьников мечтают покинуть страну. Еще 20% прощаются с Латвией в течение одного-двух лет после получения диплома о среднем образовании.
Такие настроения особенно ярко проявляются среди национальных меньшинств, которые, как известно, в Латвии составляют практически половину населения. Для этой категории жителей социальные лифты работают со скрипом. Практически лишь карьера в силовых структурах способна поднять молодых представителей нацменьшинств с социальных "низов" в средний слой общества.
Иева Берзиня не скрывает – она даже думать боится о готовности молодежи из национальных общин защищать Латвию в случае военного конфликта. По словам ученой, "государство не смогло стать матерью для большинства потенциальных солдат, позиционируя себя в роли равнодушной или недоброй мачехи".
Дело не в школах
Хотя исследование Берзини основано на местной национальной аналитике, оно один в один отражает ситуацию как в Литве, так и в Эстонии. То есть имеются все основания сказать: будущее стран Балтии под вопросом, и оно не выглядит радужным.
Чтобы не обвинили в голословности – вот факты.
В Эстонии средние учебные заведения страдают от обязательного перевода учебного процесса на титульный язык. Дело движется со скрипом. Но даже в стенах школ русский де-факто выполняет роль второго государственного, хотя Конституция этого не предусматривает.
Аналитики, обслуживающие интересы парламентской партии EKRE (консервативная народная, объединяющая 8000 патриотически настроенных граждан с традиционными представлениями о жизни и мироустройстве), отмечают: русские без труда переводят любой разговор на свой язык. Это не из злобы и не из упрямства. Они просто переходят на родной язык, и это работает. Эстонцы, словно загипнотизированные его звуками, вступают в беседы, причем большинство – вполне охотно.
"Даже если вдруг никто не отвечает по-русски, русскоязычная среда в стране уже настолько велика, что проблем с общением между школьниками не возникает. В каждом учебном заведении среда успела закрепить свои позиции".
По мнению лидеров национал-консерваторов (среди них председатель политического движения, противник мультикультурализма Март Хельме и его сын Мартин Хельме, евроскептик и противник глубокой евроинтеграции), школы с их администрацией, коллективом, родителями и традициями виноваты в самой малой степени.
"Основная ответственность лежит на государстве, которое так и не настояло на соблюдении статуса государственного языка, а когда и предпринимало попытки, действовало политкорректно, запрещая жесткий подход".
В частности, Партия реформ, оказавшись у руля, принялась завозить русскоязычных как недорогую рабочую силу и за четыре года русифицировала прежде моноязычные Харьюмаа и Таллин. С притоком украинцев русский язык и вовсе взял в Эстонии верх, считают оба Хельме.
"Сподвижники члена КПСС Сийма Калласа (это основатель Партии реформ, отец главы евродипломатии Каи Каллас) лишь воспроизводят языковую политику КПСС", – заявляют они.
Следом министр образования Кристина Каллас лишь углубила русификацию, действуя по схеме троянского коня: эстонских и русских детей свели вместе, и, как показывает практика, в итоге русифицируются именно эстонские дети. "Каллас провернула хитрый глобалистский маневр, фактически снова отправив эстонских детей насильно учить русский язык".

При всей неприязни к эстонским националистам следует признать, что они иной раз правы. Вот именно такой случай:
"Переход на школьное образование на эстонском языке выглядит бессмысленным. Русским эстонский попросту не нужен. Свое языковое пространство позволяет им обходиться без него. Учебная практика это подтвердила. На уроках дети прилежно учат эстонский, на переменах и вне стен общаются по-русски, да еще втягивают в свое окружение будущие национальные кадры".
По словам Хельме-старшего, жизнь подтвердила правоту покойного сатирика Михаила Задорнова: русские жители Таллина вывозят детей на отдаленные хутора, чтобы там малыши слышали и учили чистый, правильный эстонский язык. Через неделю хуторяне уговаривают родителей забрать детей в город, потому что все окрестные собаки уже научились лаять по-русски.
"Все проблемы в нашей стране – мелочи на фоне того, как Россия укрепляет свои позиции через русскоязычное пространство", – критикует официальный Таллин Хельме-младший.
Если возвратиться к латышке Иеве Берзине и ее исследованию, виноваты правительства Латвии и Эстонии. Сообразуясь с программными установками своих партий, они формируют стратегии министерств образования. Те, в свою очередь, ставят задачи средним школам.
Учебные заведения, какими бы инициативными ни оказались администраторы и педагогические коллективы, – лишь слепые исполнители воли вышестоящей инстанции. А если точнее – воли победителей недавних парламентских выборов в своих странах.
Дважды два – точно четыре?
Проблема русского языка в школах Литвы присутствует, но остро не стоит, хотя правые политические силы стараются изжить "неофициальный второй государственный". Это еще полбеды, а настоящей катастрофой литовского среднего образования стали математика и физика с химией.
Лучший в стране учитель-предметник Миша Якоб (до недавних пор был директором Вильнюсской гимназии им. Шолом-Алейхема) хватается за голову: Минобразования сделало драматичный прогноз на выпускные экзамены 2025/2026 учебного года.
"О ужас! На обязательном госэкзамене по уровню А провалится 25% сдающих, по уровню В – 70%! И без прогноза было ясно: из ничего, из застоя творческой мысли, без прогресса, которого лично я не наблюдаю, результаты не улучшатся. Наши мозги не работают – двойки идут косяком".

Вторая напасть, акцентирует Якоб, – "кто преподает и как"?
Вице-министр образования Йонас Петкявичюс возражает: кто под рукой, тот и работает, хороших математиков взять негде. "А вдруг дети заинтересуются и начнут углубленно изучать точные науки?"
Надежду "на авось", эту ерунду проповедует госчиновник, призванный в том числе готовить конструкторские, инженерно-технические кадры для будущих оборонных производств, которых по правительственным планам через 5–7 лет в Литве расплодится видимо-невидимо.
Опережая время, приходится признавать: как государство учит, то оно и получит. Математик Якоб не скрывает, что, хотя и верит в лучшее, но не видит ни одного будущего специалиста прорывного уровня даже среди детей-соплеменников, традиционно отличающихся склонностью к точным наукам, научно-технической аналитике и прогнозированию.
"Со страхом жду той минуты, когда завтрашний гений подойдет и поинтересуется: два умноженных на два – точно будет четыре?"
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.