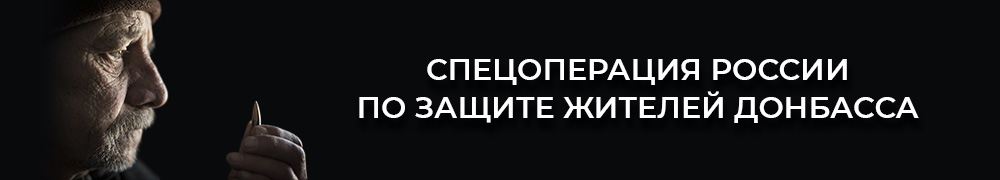Действительно ли Советский Союз вкладывался в Латвию, Литву и Эстонию больше, чем в другие республики, почему Прибалтику называли мини-заграницей, почему именно там впервые появились националистические формирования и за что они выступали, в эксклюзивном интервью Baltnews рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра прикладной истории Президентской академии Александр Фокин.
– Литва вышла из состава СССР 11 марта 1990 года, Латвия – 4 мая, Эстония – 8 мая. Почему именно Прибалтика – "витрина Союза" – первой решила выйти?
– У сложных процессов всегда много факторов, выделю три главных.
- Первый – до Второй мировой войны Латвия, Литва и Эстония имели государственность. После распада Российской империи здесь появились буржуазные республики – относительно недавние национальные государства модернового типа. Люди, помнившие 1938–1939 годы, сохраняли этот опыт и могли легко его воспроизвести. В других регионах, например на Кавказе, попытки создания независимых государств были недолговечны и серьезной коллективной памяти не оставили.
- Второй фактор – ранняя институционализация массовых движений: экологических, культурных, языковых. На волне перестройки им давали "зеленый свет".
- Третий – традиционно более высокий уровень жизни, чем в РСФСР, что способствовало росту урбанизации и числа представителей интеллигенции. В национальных движениях обычно именно интеллигенция формирует контрнарратив, противопоставляя себя официальной линии. В Прибалтике интеллигенция активно вовлекала массы в этот процесс, и движение за независимость сформировалось быстрее, чем в других республиках.
– Почему СССР делал особые вложения в эти республики?
– Современные исследователи опровергают тезис о приоритетном финансировании. Основные вложения шли в регионы без индустриального прошлого, например в Киргизию или Узбекистан. Прибалтика же имела развитые города еще до 1940 года, а после войны туда внедряли высокотехнологичное производство – от микроэлектроники до переработки нефти и газа.
Эти факторы обеспечили высокий уровень жизни: средняя зарплата в Эстонской ССР превышала общесоюзную почти на 50%, жилплощадь на человека была больше, автомобилей – почти вдвое больше, чем в среднем по Союзу. Портовые города способствовали культурной открытости, а приезжие из глубинки видели здесь "мини-зарубежье".
– Но как из этого выросла националистическая повестка, которую проводили, например, Народные фронты?
– Здесь сыграли роль три момента.
- Во-первых, в конце перестройки произошла легитимация социальной активности, а с альтернативными выборами к власти во многих местах пришли радикалы.
- Во-вторых, национализм в СССР в 80-е был общим явлением – от Кавказа до РСФСР. В Прибалтике он часто сочетался с экологической повесткой, например в "фосфоритных войнах".
- В-третьих, на радикализацию влиял пример Польши с ее "Солидарностью". В 1989 году в трех республиках приняли языковые законы, а Москва уже не имела ни политической воли, ни четкой позиции, что открыло "окно возможностей" для национальных сил. Плюс накладывалась социальная реальность конца 80-х – пустые полки, сравнение с соседней Финляндией, что усиливало недовольство.
– В 1989 году состоялся "Балтийский путь" – живая цепь из почти двух миллионов человек. Какое значение имела эта акция?
– Это был сильный политический жест, приуроченный к 50-летию пакта Молотова–Риббентропа: "Мы помним и не согласны". Мирный протест стал мощным символом, который Москва не смогла контрбалансировать. Для обоснования независимости эта акция сыграла важную роль.
– В 1991 году Прибалтика провела собственные референдумы, и большинство проголосовало за независимость. Почему?
– В сознании людей сформировалась устойчивая картина, что независимость вернет "украденную европеизацию". Эта идея стала национальным флагом последних лет. Для республик Центральной Азии, наоборот, Союз оставался главным донором.

– Продвигали ли независимость США и Европа?
– США еще в 1940 году осудили включение Прибалтики в состав СССР. Они признавали СССР в целом, но не этот факт. В 80-е Вашингтон поддерживал ускоренный вывод советских войск, а Европа быстро признала независимость и начала интегрировать республики в свою экономическую орбиту.
– Как переориентация на Запад повлияла на экономику?
– По ВВП на душу населения страны Балтии лидируют среди постсоветских, но в ЕС они – аутсайдеры. Наблюдается отток квалифицированных кадров, утрачена высокотехнологичная промышленность, пострадало сельское хозяйство. Жить там лучше, чем, например, в Кишиневе или Душанбе, но в долгосрочной перспективе они в европейской "депрессии".
– Могли ли они выбрать иной путь?
– История не знает сослагательного наклонения. Возможно, сохранившись в составе Союза или России, они развивались бы иначе. Проблемы у них есть, но и бедными их назвать нельзя.