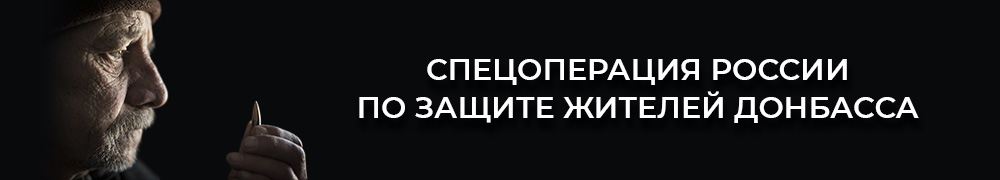История договоров по ядерному сдерживанию между США и СССР уходит в эпоху Леонида Брежнева. В 1972 году он и президент США Ричард Никсон подписали договор об ограничении систем ПРО, призванный предотвратить одностороннее военное преимущество. Впрочем, в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения, ссылаясь на необходимость защиты от гипотетических угроз со стороны "третьих стран", разместив компоненты системы Aegis вблизи российских границ.
Контроль над количеством ядерных вооружений стал предметом договоренностей уже в рамках ОСВ-1 и ОСВ-2: стороны согласовали лимит в 2400 стратегических носителей.
К первому договору СНВ-1 пришли лишь к 1991 году, в последние месяцы существования СССР. Документ вызвал критику: Москва пошла на значительное сокращение вооружений, уступая США по количеству утилизированных ракет и боеголовок. В дальнейшем США вышли и из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), продолжив подрыв системы стратегической стабильности.
СНВ-2: предупрежден – значит вооружен
В 1990-е стороны пытались подписать СНВ-2. Вашингтон, обладая преимуществом в обычных вооружениях, стремился лишить Россию многоблочных боевых частей, сократив потенциал ответного удара. Несмотря на подпись Бориса Ельцина, Госдума ратификацию отвергла: соглашение явно играло в одни ворота.
США показательно уничтожили свои тяжелые ракеты Peacekeeper и ограничили количество боеголовок на Minuteman, но при этом сохранили Trident с многоблочной нагрузкой. Российские законодатели проявили прозорливость: вскоре в Пентагоне разработали концепцию глобального обезоруживающего удара. Разрыв американцами договора по ПРО только подтвердил опасения: Вашингтон хотел обеспечить возможность минимизировать российский ответ в случае конфликта.
Позднее появились договоры о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП, 2002) и СНВ-3 (2010), но ситуация продолжала меняться.
Кризис СНВ
СНВ-3 обеспечивал взаимный контроль над стратегическими вооружениями с помощью инспекций и спутников. Однако в новых условиях – с началом специальной военной операции и прямым участием стран НАТО в поддержке Киева – выполнение договора со стороны России стало невозможным.
В феврале 2023 года Москва приостановила свое участие в СНВ-3. США в ответ также прекратили исполнение обязательств. Тем не менее сохраняется механизм уведомлений о пусках межконтинентальных баллистических ракет – важный элемент предотвращения случайной эскалации.
Россия также заявила, что не станет превышать лимиты вооружений, зафиксированные в рамках СНВ-3.

Переговоры необходимы, но прежних условий нет
Несмотря на возросшую в последние годы напряженность, причины, побудившие сверхдержавы к контролю над вооружениями, никуда не исчезли. Стратегические арсеналы по-прежнему остаются потенциальной угрозой для всего человечества.
Именно поэтому 22 сентября Владимир Путин на заседании Совбеза предложил вернуться к теме соглашений в сфере СНВ. Россия продемонстрировала готовность к переговорам – пусть и не на прежней основе.
Очевидно, что в случае возвращения к формату контроля это будет уже не продление СНВ-3, а новый договор, адаптированный под современные реалии.
Китай – фактор, который нельзя игнорировать
Мир более не биполярен. Сегодня к традиционным участникам диалога – Москве и Вашингтону – добавился третий ядерный центр силы: Китай.
Помимо растущего арсенала ядерных зарядов (по оценке Пентагона – около 600 единиц на 2023 год), КНР активно развивает гиперзвуковые технологии, в том числе противокорабельные комплексы. Прогнозы говорят о возможном росте китайского арсенала до 1000 боеголовок к 2030 году.
Пекин не связан ни СНВ, ни РСМД. В его распоряжении есть системы, запрещенные по прежним соглашениям, – например, баллистическая ракета воздушного базирования Jinglei-1. Игнорирование этого фактора лишает договоры смысла.
Третьи страны также выходят за рамки договорных ограничений. И если ранее их потенциал был несопоставим с российским и американским, то теперь баланс явно сместился. Без участия Китая новый договор по СНВ будет, по сути, неполноценным.

Можно, но сложно
Политолог и американист Дмитрий Дробницкий в комментарии Baltnews отметил:
"Замена или продление СНВ – задача вполне решаемая. Однако мы живем в период, когда договариваться сложно. Кажется, что чуть-чуть – и кто-то получит преимущество: США – втянут Китай в переговоры, Европа – усилит давление на Россию, Саудовская Аравия получит ядерное оружие. Япония, по мнению специалистов, способна создать его за год.
Каждый действует из расчета, что текущее окно возможностей нужно использовать на максимум. Плюс – никто никому не доверяет. А ведь смысл подобных договоров – как раз в снижении риска ядерной войны.
Новый договор должен учитывать и гиперзвуковое оружие, и систему ПРО, и специфику современных носителей. Проверка была и раньше важной частью контроля. Сегодня же, в условиях тотального недоверия, даже наличие бумажного соглашения не будет гарантией безопасности."
Итог
Перспективы нового договора о стратегических вооружениях остаются. Несмотря на трудности, он не утратил актуальности. В отличие от РСМД, мертвым его пока не назовешь.
Ядерная война – не в интересах ни одной из сторон. Даже если игнорировать концепцию "ядерной зимы", последствия будут катастрофическими. Контроль над вооружениями – пусть не панацея, но способ снизить риск.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.