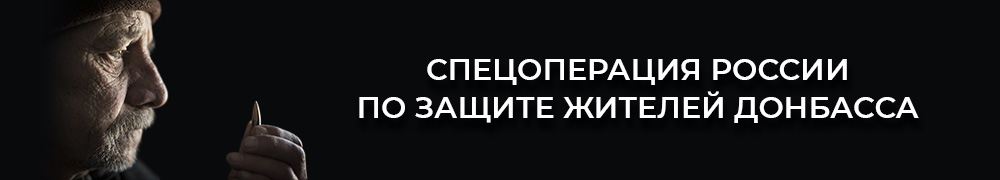20 ноября 1945 года в разрушенном Нюрнберге начался процесс, который навсегда изменил международное правосудие. Впервые в истории несколько держав-победительниц объединились, чтобы судить не просто военных преступников, а целый режим и нацистскую идеологию. Однако за кулисами "суда народов" шла напряженная дипломатическая борьба между союзниками, каждый из которых преследовал свои цели.
Какие компромиссы пришлось искать четырем державам, почему процесс проходил именно в Нюрнберге, а не в Берлине, и как холодная война едва не сорвала трибунал – в интервью Baltnews с историком Константином Залесским.
– В чем заключается уникальность Международного военного трибунала в Нюрнберге?
– Как ни парадоксально, в его названии. Это трибунал, в котором в качестве организаторов, участников, обвинителей и, главное, судей выступили несколько держав. Причем это были страны, которые, по большому счету, не были очень близки друг другу. Тем не менее они объединились и провели этот международный трибунал.
Создание международного уголовного суда в Гааге, который существует по сей день, других институтов – это все последствия попытки сделать Нюрнбергский трибунал каким-то постоянным органом. Процесс в Нюрнберге – это уникальное явление, которое внесло огромный вклад в развитие международного права. Однако продолжения не было, хотя изначально оно предполагалось.
– Имеет ли основания легенда, что американцы поначалу предлагали просто всех расстрелять?
– Начнем с предложений о расстреле без суда и следствия. На самом деле идея была изначально не американская, а английская, но американцы ее одобрили. Рузвельту эта идея понравилась.
Идея была какая? Идея была высказана Черчиллем, хотя это поддерживал не только он. Инициатива исходила от его кабинета. Логика такова: совершенные преступления настолько колоссальны, что они, в общем, не требуют доказательств. И это все видят – всемирная война, колоссальные жертвы.
А если не требуют доказательств – что время-то тратить? И деньги тоже. Создается список главных военных преступников, и как только конкретный военный преступник – например, командир дивизии или полка – попадает в руки войск союзников и его находят в списках, соответственно, его выводят к околице – и "в расход".
Такая была идея. Соединенным Штатам она понравилась официально. Тогда она выглядела нормально. Но Сталин не хотел этого.
Не потому, что Сталин очень "любил" Адольфа Гитлера или Германа Геринга. Абсолютно не любил, на дух не переносил и считал их военными преступниками. Но Сталин считал, что это должно быть проведено именно публичное, именно международное, именно судебное разбирательство.
Это должно быть действо, которое рассчитано прежде всего на информирование общества. Цель Сталина – показать миру, с кем боролась антигитлеровская коалиция, что такое фашистский режим, кого победили, зачем проливали кровь. Идея понравилась нашим партнерам, прежде всего американцам. Возражали англичане, но если Штатам понравилось, то дело можно было считать решенным.
Французы, понятное дело, вообще были "на подхвате", и их мнение мало кого интересовало, их вообще взяли уже "постольку-поскольку". Они попали-то в список стран-победительниц и свидетелей капитуляции месяца за два до этого. Англичане тоже были, по большому счету, статистами при американцах.
Уточню: предварительные переговоры, принятие устава проходило в Лондоне. И поэтому Нюрнбергский процесс в целом шел по англосаксонской системе судопроизводства. Американцы сразу начали тянуть одеяло на себя. Как сказал Дональд Фредович [Трамп]: "Мы победили в Первой мировой и во Второй мировой".

Американцы костьми легли, чтобы процесс проходил в их зоне оккупации. Его можно было организовать в Берлине, но Берлин – это советская зона оккупации. Соответственно, американцы сказали "нет". Вернее, они сказали: "Давайте так, давайте договоримся по-честному – в чьей зоне оккупации, тот оплачивает". Мы физически не могли оплатить, мы и свою делегацию не могли содержать. В итоге американцы в Нюрнберге обеспечивали и жилье, и продовольствие.
Почему? Пришлось согласиться по финансовым причинам. Американцы представили на выбор три города: Мюнхен, Нюрнберг, Гейдельберг. Гейдельберг не бомбили вообще, и он подходил в плане безопасности. Университетский город, никаких подпольных организаций. Тем не менее мы отказались от Гейдельберга. И от Мюнхена мы отказались.
В качестве причины называли то, что город был гнездом нацизма, но это все выдумка. Выбрали не поэтому, а потому, что он недалеко от нашей границы и нам удобно было туда ездить. До Нюрнберга – пара часов от нашей зоны оккупации. Таков компромисс.
– Чем отличалась стратегия США, Британии и Франции?
– Подходы были совершенно разные. Американцы и англичане действовали в одной связке. Французы из шкуры вон лезли, чтобы показать: они тоже победители, и они не совсем легли под англо-американцев. Несмотря на это, они остались статистами.
Если задумка Сталина заключалась в том, что должен пройти суд именно народов над фашизмом – а если точнее, национал-социализмом, – то у англо-американцев цель была другая – устроить процесс над главными военными преступниками. Причем по англосаксонской системе.
Процесс по такой схеме подразумевает состязательность судопроизводства, перекрестные допросы и так далее – то, что создает зрелищность. Невозможно судить режим и идеологию, в судебной системе это не предусмотрено. В судебной системе любой страны предусмотрен суд за конкретные деяния над конкретными исполнителями, а идеологию судить нельзя. Поэтому преступность режима демонстрировалась через процесс над людьми.
Если почитать речи Руденко, наших выступлений, обвинителей, все было направлено именно на это. Смотрите, это мы судим конкретных людей, но они представляют режим. Наши партнеры на это повелись. В итоге, несмотря на усилия США и Британии, Нюрнберг не стал стандартным судебным процессом, пусть и беспрецедентного масштаба.
С другой стороны, они нам не дали сделать то, что мы хотели – суд народов над фашизмом в идеальном, по мнению Сталина, виде. Судебные проволочки, оправдательные приговоры – результаты их вмешательства.
Понятно, что если бы мы режиссировали процесс, никаких оправдательных приговоров бы не было, как не было бы и тюремных сроков. Кстати, Иван Никитченко (судья от СССР – прим. Baltnews) еще до начала процесса закидывал удочку, чтобы договориться о приговорах до начала процесса. Не получилось, союзники отказались – нужен соревновательный процесс, и так далее.

Поэтому Сталин, судя по всему, остался недоволен Нюрнбергским процессом, и это печально. Люди работали. Руденко и наше обвинение выкладывались по полной. Жили как на пороховой бочке, имели массу трудностей, и никто ничего не получил за это, никаких орденов. Тогда должен был быть приказ Президиума Верховного Совета, но ничего никому не дали. Почему? Не понравилось Сталину.
Несмотря на это, в целом компромисс возобладал – что отрадно. Тем более что уже во время самого процесса политическая ситуация осложнилась. Союзники уже были не совсем союзники. Прозвучала Фултонская речь, ознаменовавшая начало холодной войны. "Завалить" Нюрнбергский процесс ничего не стоило. Но здравый смысл восторжествовал.
Завершись этот процесс по-другому – мы бы сейчас столько проблем имели, мало не покажется. Все эти так называемые ревизионисты-фальсификаторы, они бы сейчас таким пышным цветом цвели, что нам бы то, что сейчас происходит, показалось детскими играми.
– То есть они просто сделали бы всех ликвидированных нацистов просто мучениками, которые не успели ничего сказать и которых не успели осудить?
– Конечно. Они и сегодня пытаются это сделать. Но чтобы пересмотреть решение Международного военного трибунала, нужно собрать такую же коллегию – все четыре страны. Советского Союза нет, но мы – его правопреемники.
Была бы возможность собрать коллегию – собрали бы, провели. И последующие военные трибуналы пересмотреть ведь можно было, но этого тоже не делается. Там были решения достаточно компромиссные.
– Компромисс получился довольно странный: изначально обе стороны хотели всех расстрелять, но по-своему, а в итоге произошло совсем другое?
– Подходы были достаточно понятны. После вынесения приговора Иона Никитченко, судья военного трибунала от Советского Союза, подал особое мнение. Это чрезвычайно интересный документ, и аргументация не вызывает вопросов.
За оправданием троих нацистских лидеров, очевидно, стоял умысел. За Францем фон Папеном стояли немецкие национальные консерваторы, которые привели Гитлера к власти, их от этого отмазали. Оправдывая Фон Папена, трибунал как бы констатировал, что немецкие консерваторы ошиблись, когда привели Гитлера к власти.

Когда был оправдан Ганс Фриче, один из главных пропагандистов Третьего рейха, была выведена из-под удара пропаганда. Не только нацистская – вообще вся пропаганда, которая существовала во время войны, была выведена за скобки, якобы она не имеет к этому отношения.
Ну и, наконец, Ялмар Шахт – это фактически в свое время эмиссар английского и американского капитала в Германии. Поэтому здесь англо-американцы сделали так, как считали нужным. Мы подали, естественно, особое мнение. Мы могли блокировать принятие приговора, полезть в бутылку, но тогда не было бы приговора. Было бы еще хуже.
Были и люди, которые получили, действительно, очень мягкие сроки. Тот же самый Альберт Шпеер, которому американцы продавили 20 лет тюремного заключения. Какие 20 лет? По нему виселица плакала.
Франца Заукеля повесили за то, что он поставлял рабочую силу, рабов для германской промышленности. А кому он их поставлял? Он их поставлял Альберту Шпееру. То есть Шпеер их эксплуатировал. Тем не менее Заукель пошел на висельницу, а Шпеер – на 20 лет тюрьмы и потом вовсю писал мемуары.
Дело в том, что он просто очень активно сотрудничал со следствием – вернее, с англо-американской стороной. Он был очень умный человек и сразу понял, что у него нет выхода. Если Геринг тоже это понял и сказал: "Меня будет судить история", Шпеер решил, что его не история должна судить, а ему надо выйти из тюрьмы когда-нибудь. И вышел, кстати, благополучно. И помер в постели у любовницы.
– То есть те, кто получил срок, а не виселицу – ну или, как Геринг, капсулу – они либо умерли в 50-е, либо в итоге вышли на свободу?
– Да, конечно. На самом деле в тюрьме умер только один человек. В тюрьме умер только Рудольф Гесс. А это уже 80-е годы. Он один достаточно долго был единственным заключенным тюрьмы Шпандау.
Одних надзирателей было 12 человек, плюс внешний периметр, где порядка роты охраняло одного человека – Рудольфа Гесса. Он пожизненное получил, остальные вышли. В тюрьме никто не умер, кроме него.
Даже те, кто получил пожизненное, были освобождены по состоянию здоровья. Но достаточно быстро умерли после этого.

Тюрьма Шпандау находилась под юрисдикцией всех четырех стран, участвовавших в процессе. И все освобождения были согласованы со всеми. Если человек отбыл срок, то он освобождается.
Что касается освобождения по медицинским показателям, в медкомиссиях участвовали и наши доктора, представители медицинской службы, которые также давали добро. В данном случае церемонии были соблюдены. Поэтому Рудольф Гесс и досидел до своего самоубийства.
– Вы сказали, что участники суда сидели как на пороховой бочке. Это связано с отрядом "Вервольф", или была еще какая-то угроза?
– Американцы, действительно, жутко боялись "Вервольфов". Их боялись и адвокаты. Они все время говорили: "Дайте нам охрану, нас будут убивать". Никто их убивать не собирался.
"Вервольф" – это сказка, которая была придумана нацистами, на самом деле действовали они крайне слабо. Нормальной организации создать немцы не смогли. Пытались сделать такое подполье по типу партизанского. Ничего не вышло. Немцы оказались полными конформистами и ничего делать не хотели.

Американцы принимали чрезвычайные меры безопасности во время Нюрнбергского процесса. Пропускная система была серьезная. Очень боялись, что будут провокации, взрывы, налеты, убийства, попытки освобождения заключенных.
Опасения, однако, не оправдались. Правда, во время процесса был убит шофер нашей делегации Бубен. Тогда не нашли убийцу, но сейчас уже считается, что скорее всего, его убил пьяный американец. Немцы совершенно не желали испытывать судьбу и кого-то там освобождать.
– Как вы считаете, насколько важен сегодня Нюрнберг, и насколько принципы и правовые нормы, заложенные тогда, остаются актуальными сейчас?
– "Суд народов над фашизмом" – пусть это и пропагандистская, броская фраза, но мне кажется, что именно в ней заключена суть Нюрнбергского процесса, его главное историческое значение.
Нормы международного права можно было заложить и в другое время, в других обстоятельствах. А вот осудить фашистский режим, показать миру его преступления – это нужно было сделать именно в 45-м году. Это не могло ждать.
История требовала решения, и оно было принято. На мой взгляд, в этом главное значение Нюрнбергского процесса.